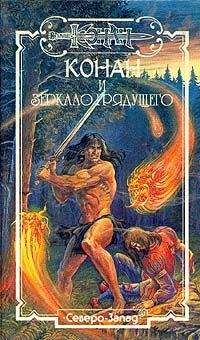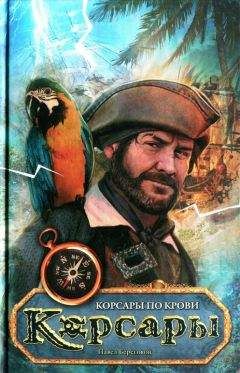В былые времена, возможно, остатки здравого смысла еще могли возобладать в нем. В конце концов, в Аквилонии немало других девушек, и многие из них куда красивее и богаче дочери барона Амилийского. Однако Нумедидес упрямо гнал от себя эти мысли, наслаждаясь разрастающейся в душе волной черного, желчного гнева. Он упивался ненавистью и планами мщения, – и чувство это было столь же непривычно пьянящим, как и ощущение силы, что он испытал в утреннем словесном поединке с Тиберием… и позже, на берегу, с той ничтожной шлюхой, о которой теперь он старался не думать… Прежде, до охоты Осеннего Гона, принц не испытывал ничего подобного. Но теперь уже не мыслил жизни без овладения этой мощью, столь призрачной и столь необходимой ему.
Горячее вино, которое он все подливал и подливал себе из медного кувшина, и пылающая ярость уносили его все дальше, – пока вдруг в кружащейся голове Нумедидеса все пережитое за последние дни не сложилось в стройную картину, и решение, единственно возможное и единственно верное, не воссияло перед ним, подобно огненному рубину, что нес в пасти своей золотой змей на Аквилонском гербе.
В волнении Нумедидес поднялся и нервно заходил по своему кабинету, натыкаясь на все подряд и даже не замечая того. Зашатался тяжелый стул. С грохотом полетел на пол низкий столик на тонких золоченых ножках, и столешница из тончайшей яшмовой пластины треснула и раскололась пополам. На шум прибежали слуги, однако, заглянув пугливо в комнату и встретившись глазами с бесноватым взглядом хозяина, почли за благо бесшумно закрыть дверь и на цыпочках удалиться.
А Нумедидес и впрямь был страшен в этот момент. Кожа лоснилась от пота, на щеках яркими багровыми пятнами играл румянец. Волосы растрепались, точно от ветра. Черный халат развевался при каждом шаге, подобно крыльям нетопыря. И глаза смотрели в никуда, округлившиеся, блестящие, по-птичьи безумные.
Наконец он остановился, замер у окна в той же позе, что и час назад. Решение было принято. Он нашел в себе мужество взять в руки огненный рубин, и теперь тот сиял, подобно путеводной звезде. И, при мысли о том, что означала эта метафора в действительности, принц Нумедидес медленно и хищно усмехнулся в сгустившуюся тьму.
Не разбирая дороги, спотыкаясь, цепляясь за корни и ветви, падая и поднимаясь с трудом, не замечая ничего вокруг, Ораст бежал по ночному лесу.
Все утро, после того как случайно столкнулся с Валерием, – у самой кухни, подумать только… совсем как в тот раз, с ней, – он слонялся, сам не свой, по огромному дому, пытаясь обрести забвение и покой в повседневной суете и шуме, однако мир бежал души его. Теперь он без тени сомнения знал, кто его счастливый соперник, – хотя, вглядевшись в мрачное лицо принца, с запавшими, тусклыми глазами, он, пожалуй, едва ли решился бы назвать его счастливым. Как видно, то, что составило бы блаженство жреца, вознесло его на небеса сияющего наслаждения, принесло Валерию лишь горечь разочарования.
Однако Ораст, если и не нашел в себе силы возненавидеть его, не мог найти в душе своей и сочувствия, – в том пожаре, что бушевал ныне в сердце его, сгорели все чувства, кроме самых яростных и безумных. Он не находил в себе сил задуматься над тем, что может чувствовать и думать Валерий, да и сама Релата, если на то пошло… он ощущал лишь свои страдания, лишь их сознавал, и лишь они терзали его, все сильнее с каждым мгновением.
Он едва не лишил Валерия жизни в том коридоре – кинжал, что он прятал в складках короткого плаща, был наготове, стремительный, подобный змеиному жалу, но он не нанес удара. И не страх остановил его, не мысль о королевском суде и даже не простое человеческое отвращение к убийству. Он готов был на все, если бы это позволило обрести желаемое, однако смерть Валерия не дала бы ему ничего, и лишь это удержало его руку. Чары приворота не могла разрушить даже смерть, и Релата чахла бы над могилой возлюбленного, слепая и глухая ко всему, позабыв о чести и долге, точно так же, как легла к нему в постель.
Нет, здесь требовалось что-то иное! Магию возможно было одолеть лишь еще более сильной магией. Однако, сколько не листал колдовской фолиант Ораст, силясь из отдельных, уже знакомых ему слов сложить внятные объяснения, сколько ни рылся в воспоминаниях – ничего не выходило! Нигде он не мог отыскать и намека на то, как разрушить содеянное им заклятье.
У него оставался единственный выход, но он не мог думать о нем без содрогания.
Марна! Слепая колдунья! Если кто и в силах помочь ему, то только она. Но для этого придется открыться ей. Рассказать о Скрижали Изгоев… Раскрыть тайну!
Кто знает, что придет ей на ум? А если она решит скормить непутевого жреца тем тварям, которые, как болтали, в изобилии водились возле ее логова, и забрать чудодейственную книгу себе? Но если даже она милостиво дарует ему жизнь, то чем он будет без Скрижали – жалким приживалом немедийского барона? Да и это вряд ли получится… Страшно представить, что сделает разгневанный немедийский князь, когда узнает, что жрец по глупости и тщеславию лишился магического тома и поставил под удар все то, чего Амальрик терпеливо ожидал столько зим. Да, не миновать тогда ему дыбы в митрианских застенках и костра на площади…
И все же ничего другого не остается… Даже если Марна покарает его за дерзновенность замыслов, за то, что он посмел своими неумелыми руками прикоснуться к магической святыне – это лишь избавит несчастного жреца от дальнейших страданий. Конечно, существовали вещи и похуже смерти… однако сейчас Ораст предпочитал об этом не думать. Лесная колдунья была его последним шансом.
Когда он, наконец, добрался до места, ждать ему пришлось совсем недолго. Он едва успел присесть на поваленный ствол у озерца, отдышаться, оглаживая лежащий на коленях том дрожащими руками, как за спиной у него послышался легкий шум шагов и шорох раздвигаемых ветвей. Ораст поспешно поднялся.
Марна выглядела точно так же, как и в последний раз, когда он видел ее, и почему-то это удивило жреца, хотя с того дня не прошло и половины луны. Должно быть, подсознательно он ожидал, что весь мир должен претерпеть изменения, подобные тем, что потрясли его душу.
Проклятая бесстрастная маска, как всегда, выбивала его из колеи. Ему оставалось лишь гадать, что за чувства, тайные страсти могли скрываться под уродливой личиной.
Он стоял молча, смущенный и неловкий, ощущая себя беспомощным ребенком. Он стоял, не осмеливаясь сделать ни шагу навстречу, ожидая, пока колдунья снизойдет до того, чтобы подойти ближе. Он стоял, не смея пошевелиться, оцепеневший, как птенчик перед змеей, неведомо откуда зная – стоит растревожить Марну, уязвить ее небрежной позой, непочтительным взглядом, суетливым движением или даже взволнованным дыханием, и ведьма еле заметным мановением руки сотрет его душу с поверхности этого мира с той же легкостью, с какой школяр влажной ветошкой стирает грифель с аспидной доски.